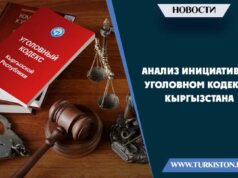Цифровая удавка как механизм надзора
В Кыргызстане принят и подписан новый закон, запрещающий передачу третьим лицам SIM-карт, банковских счетов, электронных кошельков и виртуальных активов. Формально — очередная инициатива против кибермошенничества. На деле — еще один кирпич в фундаменте цифрового авторитаризма, стремительно выстраиваемого в стране под флагом порядка и безопасности. За этим законом стоит не столько борьба с преступниками, сколько установка на централизованный контроль за каждым гражданином, его передвижением, связями, транзакциями и, в конечном счете, поведением. Государство больше не желает видеть людей, действующих в частной, а тем более анонимной цифровой среде. Счета и сим-карты — это уже не просто инструменты связи и расчетов, это ключевые элементы цифровой идентичности. Передача их — почти как подделка паспорта. А в мире, где цифровая реальность стала главным пространством жизни, это преступление против режима.
Власть в Кыргызстане стремится окончательно замкнуть круг: ты можешь жить, работать, общаться и даже существовать в обществе — только если твоя личность зафиксирована и прозрачна. Использование чужого номера телефона или электронного кошелька, которое ещё вчера было обычной бытовой практикой, сегодня приравнивается к участию в серых и даже преступных схемах. Подобная логика давно реализуется в других странах, таких как Россия и Китай. В России ужесточение правил передачи сим-карт и банковских карт началось ещё несколько лет назад. Каждый шаг гражданина фиксируется, каждый перевод отслеживается, а сама цифровая активность превращается в объект непрерывного надзора. Китай пошел ещё дальше, внедрив повсеместную биометрическую идентификацию, систему социального рейтинга и полное устранение анонимности в любом виде. Кыргызстан, похоже, уверенно движется по их следам, не оглядываясь на последствия.
Внешне такие меры оправдываются благими намерениями — борьбой с мошенниками, «дропперами» и отмыванием денег. Но за этой витриной скрывается простой политический инстинкт — желание контролировать. Контролировать все: сим-карту, разговор, транзакцию, доступ к интернету, право пользоваться цифровыми благами. В условиях усиливающегося влияния цифровых технологий на все аспекты жизни, контроль над цифровым поведением становится равносильным контролю над самим человеком. Это уже не профилактика преступности — это профилактика инакомыслия, профилактика неподконтрольного поведения, профилактика автономности.
Этот закон, как и многие ему подобные, вводит в юридическую норму презумпцию подозрения. Сам факт передачи средств связи и расчета становится чем-то опасным и подозрительным по умолчанию. Никаких разграничений — ни между доверием в семье, ни между деловой передачей, ни между личными соглашениями. Власть больше не интересует контекст. Ей нужен контролируемый по вертикали порядок. И под этим словом всё чаще скрывается не безопасность граждан, а безопасность самой власти от своих граждан.
Политически это сигнал — государство будет продолжать цифровую централизацию. И если раньше контроль осуществлялся через физические структуры, как спецслужбы и суды, то теперь он смещается в цифровую плоскость. Цифровая инфраструктура становится каркасом нового надзора, куда вписываются и финансы, и коммуникация, и мобильность. Любой, кто оказывается за пределами этой конструкции, становится потенциальной угрозой. Такой человек теряет возможность легально пользоваться телефоном, принимать переводы, открывать счета, а значит, оказывается выброшенным за пределы системы. Это и есть суть мягко – авторитарной власти: не совсем подавление, а только отключение. Не совсем репрессия, но просто исключение.
Таким образом Кыргызстан вступает в фазу цифрового сжатия пространства свободы по лекалам колонизатора. И если никто не даст этому оценку и не поставит вопросы, нам придётся говорить уже не только о свободе слова, а о свободе пользоваться своим собственным номером телефона.
Не вызывает сомнений, что первыми под действие нового закона попадут не случайные бытовые нарушители, а те, кто уже давно обозначен как потенциальная угроза для государства. В первую очередь — представители религиозной среды, особенно исламской. Именно под предлогом «борьбы с радикализмом» и «противодействия экстремизму» подобные инструменты контроля вводятся максимально мягко, но прицельно. Использование чужих SIM-карт и анонимных переводов станет характерным признаком не только для преступных группировок, но и религиозных объединений, действующих вне официального поля. Таким образом, новая норма де-факто становится инструментом точечного цифрового давления на мусульманское население, особенно на его активных представителей, формируя у общества образ «оправданной слежки».
Это позволяет власти ввести репрессивную практику с минимальным сопротивлением и даже с одобрением части общества. А уже после успешной «обкатки» — перенести её на всех граждан, независимо от их взглядов или принадлежности. Таким образом, исламская угроза снова превращается в удобный предлог, под прикрытием которого прокладывается путь к тотальному цифровому контролю.
Латыфуль Расых