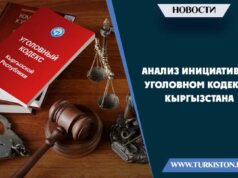Китай выстраивает лидерскую повестку в рамках ШОС
В Чжэнчжоу, Китай, 23-27 июля прошло пленарное заседание Саммита СМИ и аналитических центров ШОС, темой которого стало «Развитие «Шанхайского духа» и совместное строительство прекрасного дома». Об этом сообщает Синьхуа.
В мероприятии приняли участие 400 представителей около 200 СМИ, аналитических центров и правительственных органов из стран-членов ШОС, стран-наблюдателей, партнеров по диалогу и международных и региональных организаций.
Внимание к прошедшему саммиту СМИ и аналитических центров ШОС в Чжэнчжоу не ограничивается рамками дипломатических репортажей. За внешним фасадом культурного диалога и гуманитарного обмена скрывается куда более глубокий и стратегический процесс: постепенное перераспределение центра интеллектуальной и идеологической гравитации в рамках евразийского пространства. Китай, как организатор таких мероприятий, методично формирует вокруг себя пояс лояльного смыслового пространства, выстроенного на соблазнительной идее «общей судьбы» и «цивилизационного проекта».
Формально саммит в Чжэнчжоу посвящён Шанхайскому духу, культурному обмену и роли аналитических центров в укреплении сотрудничества. Однако реальная повестка — это выработка идеологического единства вокруг новой евразийской формулы, в центре которой Пекин. Через медийные и экспертные площадки закладываются основы будущей модели международных отношений, альтернативной существующим правилам. В этом смысле Китай пытается действовать не как региональная держава, а как глобальный проектировщик, чья задача не только расширить зону влияния, но и подменить интеллектуальные ориентиры будущего. Это не война за территории, а борьба за интерпретации.
Особое значение приобретают попытки выстроить синхронность в трактовке таких тем, как суверенитет, безопасность, культура, религия. В условиях, когда исламский фактор становится чувствительным в государствах-членов ШОС — от Центральной Азии до Пакистана, — Китай стремится мягко, но последовательно нивелировать любые очаги автономной религиозной или идеологической активности, выходящая из-под контроля. Под прикрытием борьбы с экстремизмом и сохранения стабильности проводится тонкая работа по перенаправлению религиозного самосознания в сторону лояльности к государству. В контексте ШОС эта линия может быть представлена как «общий интерес к стабильности», но на деле она отражает опасения Пекина перед любыми исламскими проектами, которые могут поставить под вопрос внутреннюю монолитность китайской системы.
Кыргызстан ограничившиеся в рамках национального государства, является небольшим обществом, на стыке интересов. И оказывается в зоне риска не только экономической, но и смысловой зависимости. Слабость собственных исследовательских институтов, уязвимость медиасферы, отсутствие продуманной государственной идеологии делает страну удобным «приёмником» внешних и чужих доктрин. Участие в саммитах, где доминируют китайские спикеры, тексты, темы, может постепенно вытеснить национальные интересы в пользу общего курса, который определяется не в Бишкеке. Это называется – структурное вымывание суверенной воли. Китай не диктует открыто, но формирует такие условия, в которых любое иное мнение кажется неудобным, неактуальным или подозрительным.
Необходимо заметить, что китайская дипломатия усилила акценты не только на экономике и безопасности, но и на «интеллектуальном влиянии». Саммиты, стажировки, гранты, переводы книг, экспертные обмены, всё это создает мягкий, но устойчивый периметр лояльности. В Кыргызстане, где медийное пространство подвержено внешним влияниям, такие процессы не просто дополняют внешнюю политику — они начинают её определять. Всё чаще можно наблюдать, как в местных СМИ, докладах, даже в высказываниях чиновников появляются формулы, заимствованные из китайских стратегий: «общая судьба», «цивилизационное сотрудничество», «культурное многообразие как ресурс стабильности».
Но одновременно с этим Китай не забывает и о Западном идеологическом конкуренте. Формируемый в рамках ШОС дискурс всё чаще включает мягкую антиизоляционистскую, антисанкционную риторику. Через призму «мультиполярности» оправдывается не только отказ от демократических ценностей, но и растущая закрытость, интеллектуальная мобилизация, склонность к контролю над инакомыслием. Таким образом, Китай пытается предложить не просто альтернативу всему миру, но параллельную реальность, где стабильность выше свободы, порядок выше сомнения, а культурное наследие — это прежде всего инструмент политической легитимации.
Для кыргызского общества последствия такого процесса могут быть двойственными. С одной стороны, участие в евразийском дискурсе даёт выход из геополитической маргинальности, то есть возможность отдалиться от старых колонизаторов. С другой — риск растворения в чужом проекте с постепенной утратой способности к самостоятельному самоопределению. Особенно уязвимой в этом контексте становится молодёжь, чьи горизонты всё чаще определяются внешними алгоритмами — будь то китайская стипендия, российская повестка или западная цифровая культура.
Интеллектуальная экспансия Китая — это не экспансия в привычном смысле, это попытка «перепрошивки» понятий. И если Кыргызстан не будет активно формировать собственную экспертную среду, то его представление о будущем будет неизбежно сконструировано кем-то другим. Без агрессии, без вторжения, но с абсолютной эффективностью в условиях абсолютного подчинения.
Для мусульманский стран входящих в ШОС нет нужды в китайском лидерстве. Исламские страны должны вспомнить свои исторически выстроенное пространство духовного, интеллектуального, экономического и культурного взаимодействия, которое на протяжении веков существовало как цельная ткань. От мавританской Испании и османской Анатолии до Средней Азии, Индостана и Магриба — это пространство не нуждалось в внешнем координаторе, потому что было объединено общим государством, системой и мировозрением. Именно эта форма «единой судьбы» — и в политическом, и в идеологическом, а главное в духовном смысле — обеспечивала устойчивость исламской уммы.
Сегодня, когда великие державы вновь стремятся вписать мусульманские страны в свои геостратегические проекты — будь то Запад, Россия или Китай — есть необходимость поставить вопрос иначе: не о встраивании, а о возрождении собственной модели единства. Такого, в котором исламская традиция не вытесняется под видом борьбы с экстремизмом, а занимает главное место как основание для справедливого общественного порядка и сотрудничества.
Мусульманским странам необходимо думать о создании собственного гуманитарного, аналитического и образовательного пространства, способного противостоять навязываемым нарративам и заново сформулировать миссию исламской цивилизации. Это призыв снова стать источником, а не приёмником смыслов. История уже показала: исламское пространство способно к мирному сосуществованию, научному расцвету и культурной многообразности — до тех пор, пока в него не вмешиваются внешние империи, диктующие свои правила. Сегодняшняя угроза — не только в военной или экономической сфере, но и в сфере контроля над мыслями, ценностями и понятиями. И именно здесь лежит ключевая точка сопротивления — не с оружием в руках, а с книгой, идеей, образовательной инициативой и истинной в мысли.
Абду Шукур